[Перевод] Эстетика шума в аналоговой музыке
Выдержка из книги «Новый аналоговый звук» [The New Analog] Дэймона Крюковски (одного из членов музыкального дуэта Damon & Naomi), в которой он рассматривает эстетику шумов в аналоговой музыке и то, что мы потеряли, перейдя в цифру.

Мои любимые записи звучат хуже всего, поскольку я чаще всего их проигрывал. Каждый раз, когда игла бежит по пластинке, она чуть глубже вгрызается в дорожки и оставляет следы, воспринимаемые в виде поверхностного шума. Информация на пластинке деградирует при проигрывании — как если бы ваши глаза заставляли этот текст немного расплываться после каждого прочтения.
Воспроизведение аналогового звука тактильно. Частично это функция трения: иголка прыгает в канавке, плёнка протягивается по магнитной головке. Трение рассеивает энергию в форме звука. А значит, вы слышите, как играет музыка с этого носителя. Поверхностный шум и шуршание плёнки — это не дефекты аналоговых носителей, а артефакты их использования. Даже лучшие инженерные находки, прекрасное оборудование и идеальные условия прослушивания не могут устранить их. Это звуки времени, измеряемого вращением пластинки или катушки — нечто вроде звуков, издаваемых аналоговыми часами.
В этом смысле аналоговые носители напоминают наши тела. Как отметил Джон Кейдж, мы создаём шум везде, где появляемся:
Для определённых инженерных задач бывает необходимой комната, в которой царит полная тишина. Такая комната называется безэховой, и шесть её стен делаются из специального материала. Несколько лет назад я зашёл в одну из таких комнат в Гарвардском университете и услышал два звука, один высокий, один низкий. Когда я описал их главному инженеру, он рассказал мне, что высокий звук — это звук работы моей нервной системы, а низкий — кровообращения. До самой моей смерти со мной будут существовать звуки.
«Тишина — это смерть, действуйте», мучительно напоминал нам слоган на пике эпидемии СПИДа в 1987 году.

Так зачем искать тишину в качестве части нашего восприятия музыки?
*
A–A–D
Переход музыки на цифровые носители сейчас кажется очевидно резким, но в середине восьмидесятых он казался таким безобидным, что ни я, ни мои друзья-музыканты, его практически не заметили. CD появились на потребительском рынке точно так же, как любые другие предметы из маркетинговых схем, с обещаниями более чистого звука, надёжности и увеличения свободного места в доме — всё по соответствующим образом высокой цене. Для тех из нас, кто наслаждался пластинками, всё это звучало, как рекламная речь, стремящаяся разлучить скучающих бизнесменов с их деньгами. Пусть они забавляются с новой игрушкой, думали мы с друзьями. Каждый раз, когда наш любимый магазин б/у пластинок получал кучу LP из коллекции очередного человека, «преобразующего» свою коллекцию следуя новым технологиям, мы поздравляли друг друга с имеющимся у нас здравым смыслом и не отказывали себе в покупке неновых альбомов по быстро снижающимся ценам.
Слухи и теории заговора, связанные с CD, процветали. «Невозможно надолго соединить металл и пластик», — авторитетно заявлял мне друг с техническим образованием. «Они расслоятся, как печеньки Oreo». «Они очень дёшевы в производстве», — говорил клерк из музыкального магазина, которого мы считали хиппи-параноиком, потому что он был на несколько лет старше нас. «А если посмотреть прямо на красный свет в проигрывателе, можно ослепнуть». Те же, кто лично слышал звук с CD –, а таких в моём окружении было немного, поскольку покупать и проигрыватель и новые дорогие носители было им не по карману — со знанием дела заявляли, что те звучат «холодно» и «грубо». Продавец из hi-fi отдела объяснял, что динамический диапазон CD превышал возможности наших дешёвых стереосистем, и их нужно слушать на новой, обновлённой системе, чтобы почувствовать разницу.
Так что, когда мой тогдашний партнёр по музыкальной группе объявил, что купил CD-проигрыватель, чтобы послушать один из наших любимых альбомов «Crazy Rhythms» от Feelies «без царапин», я отнёсся к этому с пренебрежением. А потом взволнованно попросил его тоже послушать.
И правда, никаких царапин там не было.
Ощущение от первого прослушивания CD, которое я запомнил — вместе с поверхностными шумами моей копии пластинки, и, в данном случае, другими шумами с копии моего партнёра — было похоже на езду на автомобиле последней модели, разработанной для плавной езды, вместо езды на моём ржавеющем Fiat 128, с дырой в днище и проблемами с набором высокой скорости. Как и в большом новом американском автомобиле, я уже не чувствовал поверхности.
Несмотря на капитуляцию моего партнёра и очевидную правдивость хотя бы части маркетинговых заявлений, мы с ним продолжали насмехаться над хайтеком и научно-фантастическим имиджем: небольшие серебристые диски, изготавливаемые в «чистых комнатах» и проигрываемые при помощи света. Мы писали ехидные замечания для нашего собственного первого CD, который был выпущен только в Европе небольшой звукозаписывающей компанией Бенилюкса под подходящим названием «Schemer» [интриган]:
Они только что приняли наш сигнал на Сатурне. И бармен говорит: да, звук у ребят потрясный.
Звук сегодняшнего дня, находящийся в нескольких световых годах отсюда. Вылетает из загадки и попадает в твою жизнь. При помощи лазерного луча.
Хотя мы изошли кровью по поводу каждого аспекта нашей первой пластинки, к выходу первого CD мы отнеслись легкомысленно. Мы придумывали наши замечания, печатали их на пишущей машинке, безрассудно решили вставить в альбом «бонус-трек», от которого после долгих споров отказались на LP. Мы были похожи на голливудских звёзд, яростно защищавших свой имидж в американских СМИ, но решивших опозориться в Японии. CD казался таким далёком от нашей музыкальной жизни, что он с лёгкостью мог предназначаться для выхода не просто за океаном, а где-нибудь на другой планете, о чём мы и шутили в примечаниях.
Но шутка обернулась против нас. Именно то, что нас так забавляло по поводу CD — то, что для проигрывания их не нужно касаться — кардинально отличало их от пластинок и закончило ту музыкальную эру, в которой росли мы. «Цифровая» натура CD соответствовала тому, что их не трогали руками. А LP наоборот, мы обожали трогать. Мой друг, владелец магазина звукозаписей, рассказывал, что некоторые коллекционеры их даже облизывали.
Если прислушаться к аналоговой записи, можно услышать все сохранённые на ней звуки: сигнал и шум.
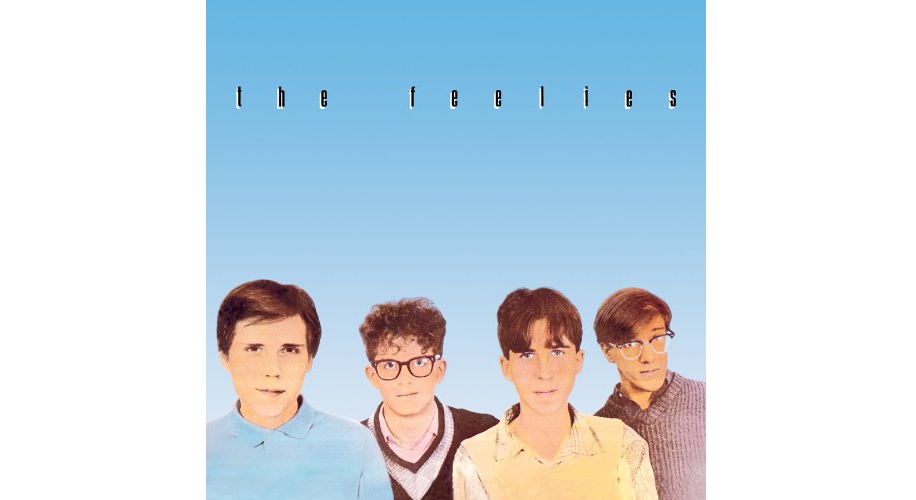
*
Фортепьяно
У неосязаемости цифровой музыки есть прецедент из ранних дней звукозаписи.
До появления Victrola [торговая марка фонографа от Victor Talking Machine Company — прим. перев.] и радио, домашняя музыка означала наличие музыкальных инструментов в гостиной. Небольшие гитары до сих пор называют «гитарами для гостиной», «parlor guitar». Фортепьяно остаётся самым крупным, дорогим и наименее портативным из всех инструментов для гостиной. В США экономический бум после Гражданской войны вылился в скачок продаж фортепьяно. До сих пор эти инструменты занимают центральное место в старых домах США, независимо от того, играет ли кто на них, и нужны ли они кому-нибудь. На сайте PianoAdoption.com есть список инструментов, которые можно забрать самовывозом бесплатно. Его придумал один хитрый грузчик из Нашуа, Нью-Хэмпшир.
Всем фортепьяно требовались ноты. Ещё в 1830-х бостонский композитор и священник Лоуэл Мейсон (его наборы христианских гимнов ещё помнят многие американцы) ратовал за обучение музыки в новой системе общественных школ. К тому времени, как в 1880-х сын Лоуэла, Генри, начал производить фортепьяно Mason & Hamlin, «Америка стала самой музыкально образованной нацией на земле», как утверждают в Центре популярной музыки. В позолоченном веке в США издатели нот были так же важны для интеллектуальной собственности, как производители фортепьяно для индустриальной экономики.
А затем в 1898 году внезапное цифровое изобретение стравило одних с другими: пианола, или механическое пианино.
Механическое пианино отказалось от нотной музыки в пользу бумажных перфорированных лент, направлявших пневматические рычажки. Перфолента — это цифровое изобретение до эпохи электроники. Как и жаккардовый ткацкий станок, оно использует отверстия в бумаге, соответствующие двоичным инструкциям «вкл» и «выкл». Первое устройство, сделанное по этой технологии, выпущенное компанией Aeolian Company, стало так популярно, что к 1920-м половина продаваемых в стране фортепьяно поддерживало эту технологию. Даже в Steinway стали делать механические пианино.
И в то время, как изготовители фортепьяно могли получать прибыль с этой технологии, издатели нотной музыки были её лишены. Технология перфолент принадлежала их изготовителям. К 1902 году, всего через четыре года после выхода на рынок механического пианино, они продавали уже по миллиону перфолент.
Поэтому издатели сделали то, что сделала бы любая софтовая компания, существованию продукта которых угрожали бы производители железа: подали в суд. Издатели утверждали, что цифровая перфолента для пианино нарушает их авторские права, воспроизводя печатаемую ими музыку, несмотря на то, что она не использует непосредственно их продукт. Дело дошло до Верховного суда США. И они проиграли.
К 1908 году Верховный суд принял решение в пользу чикагского производителя механических пианино и перфолент, отказав бостонскому музыкальному издателю, судившемуся из-за песен «Little Cotton Dolly» и «Kentucky Babe.»
В деле «White-Smith Music Publishing Co. против Apollo Co.» суд постановил, что музыка не является «осязаемой вещью»: «Ни в каком случае нельзя называть копиями достигающие нас посредством чувства слуха музыкальные звуки», писал член верховного суда Уильям Р. Дэй, утверждая, таким образом, что звуки не могут быть объектом авторских прав.
Музыкальное произведение — это интеллектуальный продукт, существующий вначале в воображении композитора. Впервые он может сыграть его на инструменте. Его невозможно скопировать, пока его не обратят в форму, которую другие люди могут видеть и читать.
Перфоленты, конечно, можно видеть, и кто-то может сказать, что их можно читать –, но не как музыку, и читать их может не человек. Поэтому Apollo Co. может безнаказанно продолжать изготавливать перфоленты с песнями «Little Cotton Dolly» и «Kentucky Babe», постановил суд, поскольку «эти перфоленты являются частью машины».
Суд также отметил, что это же рассуждение можно применить и к другому новому изобретению: записи на восковых валиках. Судья Дэй одобрительно цитирует слова, уже использованные апелляционным судом:
Нельзя утверждать, что отметки на восковых цилиндрах можно разглядеть глазом или, что их можно использовать каким-либо иным способом кроме как в механизме фонографа. Следовательно, они не несут никакого смысла даже для глаз музыканта-эксперта, и их никак нельзя использовать, за исключением применения в машине, специально приспособленной для воспроизведения содержащихся на них записей. Эти специально подготовленные восковые цилиндры не могут заменить защищённые авторскими правами нотные листы и не могут служить для иной цели кроме той, для которой они предназначены непосредственно.
Такое решение оставило издателей музыки ни с чем. Звук был неосязаемой вещью, а их авторские права распространялись только на физические носители. Производители механических пианино и фонографов обладали правами на все механические части своих устройств, и если эти части испускали музыкальные звуки, так это никого, кроме них, не касалось.
В Конгрессе это приняли без энтузиазма. В следующем году там переписали закон об авторских правах, отменяющий решение Верховного суда. Чтобы спасти музыкальных издателей от Napster-подобного хаоса механических пианино, свободных от авторских отчислений, но при этом не подрезать крылья индустрии механических пианино, позволив их производителям и дальше делать эти устройства, закон об авторских правах 1909 года установил систему принудительного механического лицензирования. Механическое воспроизведение музыки (перфоленты для пианино, граммофонные записи) можно было производить и далее без разрешения музыкальных издателей, если только этим издателям выплачивались предписанные законом отчисления за каждое «механическое воспроизведение», созданное на основе их музыки. Кстати, роялти за написание песен до сих пор так и рассчитываются, и до сих пор называются «механическими отчислениями» [mechanical royalties].
Однако Конгресс в 1909 году отказался менять определение музыки, что позволило ей оставаться в глазах закона неосязаемой вещью. Оглядываясь назад, кажется странным, что «достигающие нас посредством чувства слуха музыкальные звуки» — записи — оставались вне правовой защиты закона об авторских правах до 15 февраля 1972 года. Что объясняет, почему музыкальная индустрия XX века так сосредотачивалась на лэйблах — осязаемых, а, следовательно, защищённых авторскими правами объектах, получивших такую важность с точки зрения закона, что это слово стало метонимией для самих звукозаписывающих компаний. Из-за того, что звук нельзя было защитить авторским правом, символ владения объектом на лэйблах звукозаписи и конвертах для грампластинок применялся только к тому, что было на них напечатано: логотипы, рисунки, примечаниях к альбомам.
К 1972 году закон США был исправлен с целью разрешить защищать авторским правом звукозаписи, и для этого был даже введён новый символ, поскольку не применялся для этой цели: Ⓟ, фонограмма [phonogram].
*
Жадные пальцы
Вернёмся на секунду к безэховым комнатам и Джону Кейджу. Кейдж вошёл в комнату, чтобы ощутить тишину — то, что сегодняшние аудиоинженеры называют цифровой чернотой, отсутствием и сигнала, и шума. Но он обнаружил, что его собственное живое тело испускает звуки во времени: звуки работы нервной системы и циркуляции крови. «Нет нужды бояться за будущее музыки», — заключил Кейдж — поскольку, что такое музыка, если не звуки, распределённые во времени? Тишина недоступна телесному восприятию, поскольку живые тела занимают не только пространство (безэховую комнату), но и время (Джон Кейдж в безэховой комнате). Мы можем представить и создать условия для бестелесного звука, но мы не сможем его услышать, так как слух зависит от времени. Наши уши такие же жадные, как наши пальцы, и хватаются они за время.
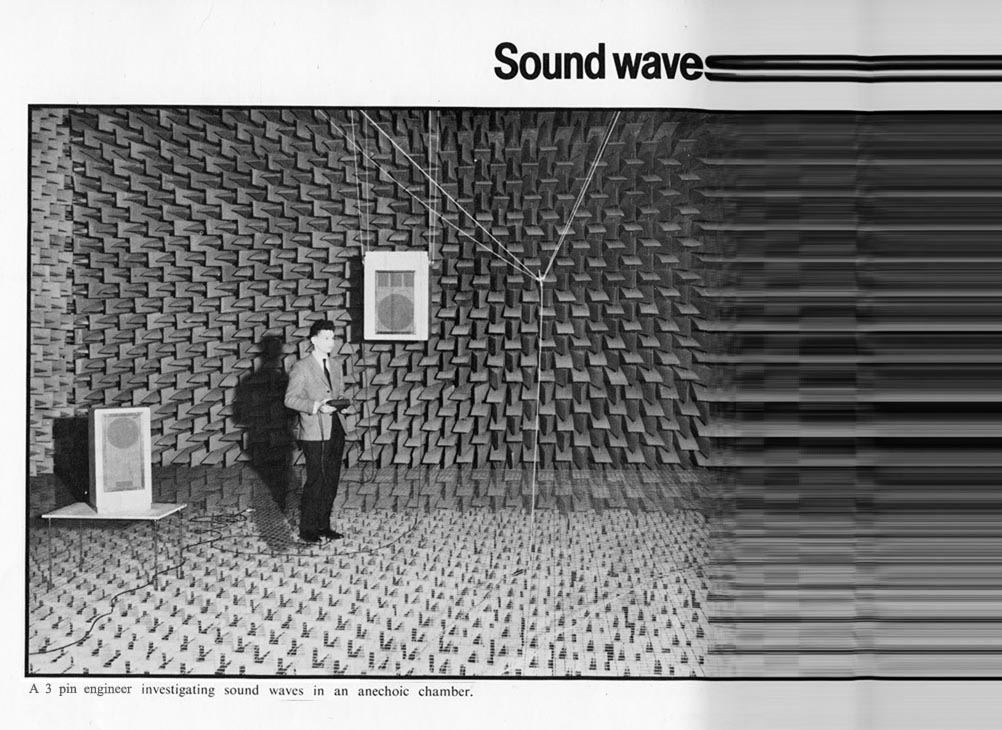
Поэтому решение Верховного суда от 1908 года и было интуитивно неверным. Абстрактный звук может и не быть «осязаемой вещью», но звуки во времени осязаемы. Изобретение записи звуков позволила людям осознать это. «Консервированная музыка» — как назвал впервые появившиеся записи Джон Филип Суза — это музыка, сохранённая на будущее. Это время в бутылке.
Как подробно описывает Джонатан Стёрн в истории ранних звукозаписей, изобретение консервированной музыки связано с увлечениями бальзамированием того времени. Викторианцы были одержимы смертью, и считали звукозапись одним из способов сохранения: «Смерть и вызов «голосов умерших» повсеместно встречались в записях, касавшихся звукозаписи в конце XIX и начале XX веков», — писал Стёрн. Он указывает, что даже Ниппер, знаменитый талисман и модель для логотипа HMV (His Master«s Voice [голос его хозяина]) основан на изображении собаки, слушающей граммофон, стоящий, по мнению многих, на крышке гроба.


Ниппер реагирует на запись голоса своего хозяина, поскольку воспроизводимый звук осязаем во времени. Просто время немного сместилось.
*
Удивительное сращивание
Изобретение магнитной плёнки в конце 1940-х сделало смещение времени более пластичным. Восковые валики и граммофонные записи могли сохранять временные пласты, а плёнку можно было разрезать на кусочки времени и переставить их местами. Гленн Гульд называл это «удивительным сращиванием», поскольку оно давало ему возможность довести до совершенства записанное исполнение композиций, выбирая кусочки из разных попыток. Бритва и скотч — всё, что требовалось для соединения разных отрезков времени.
Композиторы-экспериментаторы быстро довели эту пластичность до предела, пытаясь достичь абстракции.» Конкретная музыка», как назвал этот авангардный стиль это французский композитор и теоретик Пьер Шеффер, использовала такое перемешивание фрагментов, чтобы отделить «объект звука» от его источника (инструмента или места записи звука), и затем сделать его неузнаваемым через сокращение или другое изменение. Джон Кейдж использовал сращивание для перестановки фрагментов случайным образом, создавая алеаторную музыку. Но тяжёлый труд, необходимый для разрезания по 192-страничной партитуре плёнок с разными звуками для получения одной композиции Williams Mix (1952) длительностью в четыре с половиной минуты, убедил Кейджа закончить эксперименты в этой области. Каждая страница партитуры, описывающая разрезание плёнок из двух «систем» по восемь треков в каждой, в итоге выливается в 1 ⅓ секунды воспроизведения.
Вы можете предположить, что огромное количество фрагментов в работе типа Williams Mix приведёт лишь к получению неразборчивого шума. Но даже в такой экстремальной работе, для которой пять сотен звуков из разных источников были порезаны и тщательно соединены, можно услышать звуки во времени. Наши уши улавливают чрезвычайно малые фрагменты, как в звукозаписи, так и в реальном мире.
Аудиоинженеры проверяли пределы способностей нашего восприятия, выясняя самую малую длительность звука, которую человек может распознать, как определённую ноту. Оказалось, что она равна 100 мс. В книге «Микрозвук» Кёртис Роудс пишет, что наши уши могут различать даже звуки меньшей длительности, «отдельные события… вплоть до длительности в 1 мс». Такие звуки кажутся щелчками –, но щелчками с «амплитудой, тембром и пространственным расположением», поэтому их можно отличить друг от друга.
Миллисекунда — одна тысячная секунды. Представьте, что партитура Кейджа для Williams Mix растянулась на 192 000 страниц для описания того же набора звуков длительностью в четыре с половиной минуты. Такой детализации не могло бы достичь ни одна аналоговое произведение.
Или мы можем сказать по-другому: ни одна аналоговая работа не может превзойти нашего ощущения времени.
*
У подножия головного мозга*
*Отсылка к фрагменту мультфильма «Жёлтая подводная лодка», «The Foothills of the Headlands»
В поп-музыке манипуляции с плёнкой привели к другому набору заключений, больше сюрреалистичных, нежели абстрактных. Ещё до появления многодорожечных магнитофонов музыканты и аудиоинженеры сообразили, что они могут переключаться между двумя магнитофонами и перезаписывать поверх одной записи другие звуки. Четырёхдорожечная плёнка сделал это процесс достаточно гибким и эффективным для того, чтобы Beatles смогли записать свои психоделические Revolver и Sgt. Pepper«s Lonely Hearts Club Band. Заполнив всё доступное пространство, инженеры звукозаписи Abbey Road делали «редукционный микс» на одну дорожку (на той же плёнке или на другом магнитофоне), и продолжали добавлять звуки поверх.
Наложение дорожек позволило использовать время, хранящееся на плёнке, отличным от сращивания образом. Сращивание соединяет два отдельных фрагмента, а наложение складывает множество фрагментов вместе и создаёт сверхреалистичное окружение — в котором струнные оркестры и играющие задом наперёд гитары соединяются в пространстве и времени на одном кусочке плёнки, разматывающейся со скоростью в 15» в секунду.

Слушатели этих воображаемых звуковых ландшафтов были захвачены их гиперреальностью, а не невозможностью. «Lucy in the Sky with Diamonds» — архетипический пример песни той эпохи, не только из-за скрытого намёка на наркотики (который Джон Леннон всегда отрицал), но и из-за того, что она описывает ощущение от прослушивания многоканальной записи. «Представьте, что вы плывёте по реке в лодке», начинает она, и вы могли представлять себе такое, слушая Дебюсси. Но затем она добавляет невиданный слой цвета: «с оранжевыми деревьями и мармеладными облаками». Когда вы привыкаете к этой синестезии и фокусируетесь на «девушке с калейдоскопическими глазами», голос Леннона вдруг отодвигается очень далеко, напевая:
Жёлтые и зелёные целлофановые цветы возвышаются у вас над головой.
Очевидно, это именно вы могли отодвинуться, став очень маленьким, а голос Леннона при этом мог остаться на месте. Но что в таком случае происходит с девушкой, которую мы только начали узнавать?
Посмотрите на девушку с солнцем в глазах, и вот её уже нет.
Бум-бум-бум. Исчезает не только девушка, но и весь звуковой ландшафт, уступая место припеву, появляющемуся снова в совершенно другом месте. И вы тоже входите в это место, так же неумолимо, как один момент времени сменяет другой.
Джон Леннон тянет нас через меняющиеся перспективы «Lucy in the Sky with Diamonds», будто бы проводя нас через множество слоёв пространства и времени, добавленных Beatles на многоканальную плёнку. Как 192-страничная партитура Джона Кейджа для четырёх с половиной минут музыки, каждая из коротких поп-песен с альбома Sgt. Pepper«s имеет в основе сотни часов труда. Но вместо спрессовывания этого времени через разрезание, как делал Кейдж, Beatles снова и снова наслаивали плёнки одинаковой длительности, пока запись не стала такой насыщенной временем, что начала напоминать действие наркотического препарата.
*
Шипение плёнки
Так же, как существует физическое ограничение на количество кусочков, способных уместиться на плёнке заданной длины — ограничение, к которому Джон Кейдж, по-видимому, подошёл в своём Williams Mix с первого раза — существует и ограничение на количество наслоений, доступное для аналогового носителя. Плёнка не может двигаться через записывающий аппарат бесшумно, как не бываем бесшумными мы сами в безэховой комнате. Это значит, что каждое наслоение добавляет не только больше сигнала, но и больше шума, в виде шипения плёнки. А слои шипения не становятся более наркотическими, они становятся более громкими.
Одна из причин, по которым великие многоканальные записи были сделаны артистами с огромными ресурсами — Beatles, Beach Boys — для таких записей необходимо лучшее аналоговое оборудование, способное минимизировать шипение плёнки для такого большого количества прогонов. Артисты «lo-fi» создавали настолько же плотные и психоделические работы. Коллектив звукозаписи Elephant 6 начал делать свои работы ещё в старших классах при помощи четырёхканальной кассеты. Но в аналоговых записях наслоения и шипение плёнки обязательно идут рука об руку. Только капитал (или Capitol) могут достойно справляться с шумом при накоплении слоёв.
И всё же, Sgt. Pepper«s и Pet Sounds содержат не только сигнал, но и шум. Эти шумы не ограничиваются шипением плёнки — они включают многие слуховые артефакты различных мест и времён, наложенные на плёнку. Хороший пример из Sgt. Pepper«s — различимый звук работающего в студии кондиционера воздуха после яркого финального аккорда альбома. Фанаты использовали силу интернета и краудсорсинга для составления списка всех шумов, сопутствующих сигналам на записях Beach Boys. Вот, к примеру, их список для композиции «Here Today» с альбома Pet Sounds:
1:15 Майк слишком рано начинает припев. «She made me feel», а потом кто-то что-то говорит Майку, чтобы он остановился.
1:27 Что-то металлическое падает на моменте: «She made my heart feel sad. Sh (звук)e made my days go wrong. .» во втором куплете
1:46 Брайан говорит «всё», как только заканчивается второй припев, чтобы перемотать плёнку и начать новую запись
1:52 Кто-то что-то говорит, вероятно, по поводу камер
1:56 Кто-то отвечает человеку с 1:52
2:03 Брайан говорит «заново, пожалуйста», вероятно, потому что он понял, что плёнку не остановили после всех звуков
2:20 Разговоры
Эти нечаянные шумы неотделимы от намеренных сигналов. Если бы Брайан Уилсон захотел от них избавиться, ему пришлось бы перезаписать весь трек, на котором они содержатся. А если бы этот трек уже смешали с другими, пришлось бы перезаписывать и их тоже. А если бы звуки остались незамеченными до финального микса, как часто бывает, пришлось бы выбрасывать всю запись и начинать сначала.
Аналоговая запись — аддитивный процесс. Всё, что происходило в студии при добавлении каждого слоя, вновь происходит при проигрывании плёнки. И при всей гениальности инженеров из Abbey Road –, а это была прекрасная работа, они, кажется, использовали или изобрели большинство техник аналоговой студийной записи — они не смогли убрать звук кондиционера в конце «A Day in the Life», не убрав затихающий фортепьянный аккорд.
*
Прослушивание в глубину
А в конце аддитивного процесса находится внимательный слушатель. Если достаточно внимательно прислушаться к аналоговой записи, можно услышать все сохранённые звуки: сигнал и шум.
Когда каталогизаторы нечаянных звуков слушают записи Beach Boys, они слушают между нот. Можно назвать это прослушиванием в глубину, осознанием глубины множества слоёв мультиканальной записи. Они слушают, проникая через поверхностный шум LP, через шипение мастер-плёнки, через слои музыки, вплоть до самой комнаты, в которой её играли, в которой два музыканта, играющих на трубе, переговариваются друг с другом.
Иначе говоря, они слушают не только сигнал музыки — они слушают сигнал, подчёркнутый и обогащённый шумом.
Дают ли цифровые форматы возможность проявлять такое внимание? Наши привычки показывают, что нет.
В iTunes у меня есть папка с музыкой, доступ к которой у меня есть только в цифре — в основном, это бутлеги из интернета и промо-копии. Я не считаю, что этот набор составляет большую часть моей коллекции, поскольку записей и CD у меня больше, чем это можно представить себе для жителя квартиры. Но iTunes всё же подсчитывает, что для прослушивания всей этой папки мне понадобится пять дней, пятнадцать часов, пятьдесят одна минута и пять секунд.
Буду ли я её слушать?
Цифровая музыка, лишённая трения — те самые звуки, которые нельзя потрогать — и распространяется, и хранится тоже без трения. iPod classic от Apple рекламировали за его способность хранить до 40 000 композиций. Для примера, Beatles написали всего 237 песен.
В сегодняшнем мире цифровых носителей и устройств нормально иметь доступ к гораздо большему объёму музыки, чем человек может прослушать. Сейчас времени на прослушивание музыки у нас меньше, чем доступных записей. Цифровая музыка создала дефицит времени.
А это значит, что даже в моей относительно небольшой папке с цифровыми бутлегами и промо-записями многие композиции так и не будут прослушаны. Точнее, большинство не будут прослушаны очень внимательно. Внимательное прослушивание — функция времени. Оно начинается с самого начала композиции, улавливает все ноты и промежутки между ними, и заканчивается в конце.
Описывает ли это наши цифровые привычки прослушивания? Лично я часто проматываю многие цифровые композиции. Если она находится в интернете или на моём компьютере, я пропускаю её, я делаю предварительное прослушивание треков, слушаю немного тут, немного там. Моё цифровое прослушивание относится только к сигналу. Я слышу ноты, но не промежутки между ними, и не глубину под ними. Это поверхностное прослушивание, лишённое шума.
